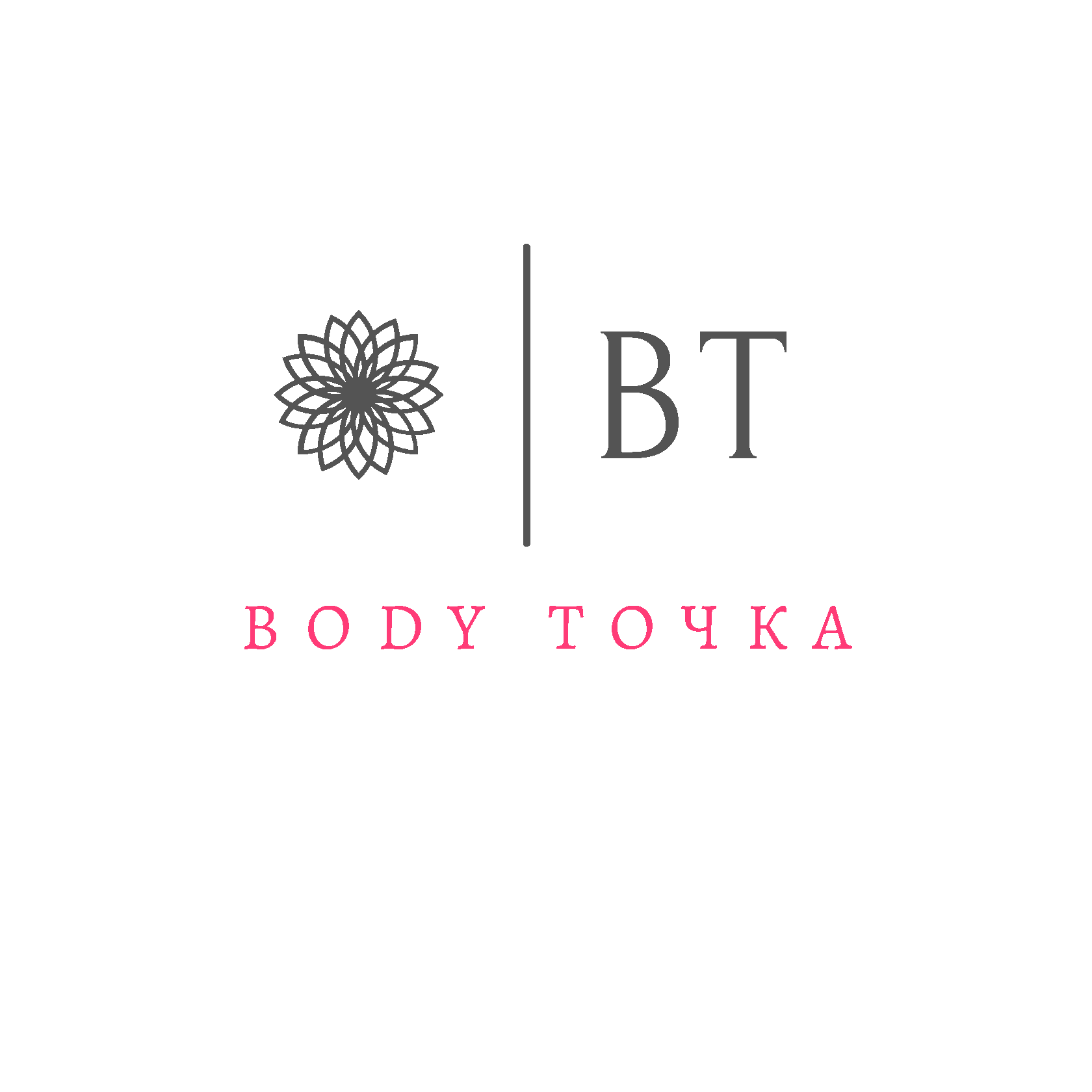Детство, юность: Чиатура – Тбилиси – Москва
Арчил родился весной 1926 года в небольшом грузинском поселении Чиатура. Его отец Михаил Гомиашвили, выпускник Московской школы красной профессуры, в это время трудился председателем комитета угольщиков на Донбассе. Узнав о появлении наследника, Михаил отправил жене поздравительную телеграмму с просьбой назвать мальчика Виктором. Но родня решила, что новорожденный должен носить имя дедушки-священника Арчила, репрессированного по ложному доносу. Он был освобожден лишь по окончании Великой Отечественной войны, после чего вернулся в Грузию, надломленный партийным предательством.
Арчил Гомиашвили в детстве
Детство Арчила проходило и на Украине, и в Грузии, но он никогда не ощущал притеснений со стороны сверстников из-за национальности или места проживания. Он окончил русскую школу, а на грузинском языке стал разговаривать лишь в четырнадцать лет.
Начало карьеры
Окончив в Тбилиси Академию художеств, в 1943 году Арчил отправился в театр имени Александра Грибоедова для оформления постановки пьесы «Лисички». Ставил спектакль Георгий Товстоногов, художественный руководитель труппы. Для Гомиашвили было неожиданностью предложение режиссера сыграть в постановке роль Лео Хаммера, однако с того момента Арчил стал играть почти во всех постановках Товстоногова.
Арчил Гомиашвили в юности
В 1948 году режиссера пригласили в Москву, и он предложил Арчилу поехать вместе с ним. Актер без профильного образования поступил в школу-студию МХАТа. Но характер было не изменить, и Гомиашвили снова попал в неприятную историю, став участником драки в баре, после которой его исключили из вуза. Арчил уехал обратно в Грузию и стал работать в театре имени Константина Марджанишвили.
Остап Бендер и другие роли
Арчил Гомиашвили и Леонид Гайдай
Режиссер уже успел подобрать практически весь состав актеров, включая Сергея Филиппова, в итоге блестяще воплотившего образ Кисы Воробьянинова на экране. Но с выбором героя на главную роль Остапа Бендера возникли проблемы. На пробах побывали более двадцати известных артистов, в числе которых оказались Александр Ширвиндт, Валентин Гафт, Михаил Козаков и Олег Борисов. Предлагали эту роль и Владимиру Высоцкому, которому помешала сниматься алкогольная зависимость.
Арчил Гомиашвили в образе Остапа Бендера
После многочисленных проб на роль был утвержден Александр Белявский, однако молодому актеру не хватило харизматичности и яркости. Съемки приостановили и стали искать нового Остапа. Леонид Иович вместе с ассистентами выехал в Горький, где как раз гастролировал со своим мюзиклом-моноспектаклем Гомиашвили. Гайдаю понравилась напористость и энергия 40-летнего актера, его умение держаться на сцене и хитроватый блеск в глазах. И хотя Бендеру по сценарию было не более тридцати, Арчила Михайловича утвердили на роль.
Арчил Гомиашвили на съемках «12 стульев»
Актер сходу вписался в съемочный процесс, не смущаясь уже прославленных на тот момент коллег – Михаила Пуговкина и Георгия Вицина, Нины Гребешковой и Юрия Никулина, Савелия Крамарова и Натальи Варлей. Гомиашвили показал силу своего таланта, а после выхода комедии на экраны его полюбили и зрители. Ошеломительный успех фильма в 1971 году принес Арчилу не только всесоюзную славу, но и ордер на трехкомнатную квартиру в Москве, куда он вскоре и переехал.
Тем не менее, в своем более позднем интервью Гомиашвили сетовал на то, что Гайдай не дал ему возможности раскрыть роль так, как он хотел — Бендера на экране почти полностью озвучил Юрий Саранцев, а Арчил лишь спустя годы узнал, что без его согласия этого не имели права делать. Песни, звучавшие в картине, исполнял Валерий Золотухин. Гомиашвили считал, что не раскрыл характера героя, играя его словно на бегу, следуя ритмике картины. Тем не менее, его как актера узнала вся страна именно благодаря Остапу Бендеру.
После ошеломительного успеха артист собирался продолжить играть эту роль в театре Ленинского комсомола, в труппу которого попал после переезда. Предложив Марку Захарову сценарий своего мюзикла, Арчил не знал, что в планах режиссера уже имеется собственный вариант о великом комбинаторе. Выход на экраны фильма «12 стульев» с Андреем Мироновым в главной роли больно ударил по самолюбию Гомиашвили. Но телепремьера помирила его с Гайдаем, который назвал новый вариант комедии «уголовным преступлением». Сам Арчил до конца своих дней считал, что в его несостоявшейся театральной карьере виноват Марк Захаров.
Арчил Гомиашвили и Андрей Миронов в образе Остапа Бендера
В середине 70-х Арчил Михайлович перешел из Ленкома в театр имени Александра Пушкина. Тогда же он снялся в роли подлеца-соблазнителя из «Мимино» (1977), Якова в «Золотом руне» (1981) и Паши Фокина в «Моем любимом клоуне» (1986). Пять раз Гомиашвили создавал в разных фильмах образ Иосифа Сталина («Государственная граница. Год сорок первый» (1980), «Сталинград» (1989), «Трагедия века» (1993) и «Война на западном направлении» (1990). Последняя работа актера в этой же роли – и в кинематографе и в принципе – состоялась в 1993 году в военной драме Юрия Озерова «Ангелы смерти».
Арчил Гомиашвили в фильме «Мимино»
Театр
В этом тбилисском храме Мельпомены актер проработал около десяти лет, после чего в поисках достойного выхода своей творческой натуры некоторое время метался между Театром имени Г. Эристави города Поти и Тбилисским русским театром имени А.С.Грибоедова.
Арчил никогда не гнушался никакими ролями, однако его главной театральной работой по иронии судьбы стал музыкальный моноспектакль «Похождения Остапа Бендера» известного режиссера Юрия Любимова, в котором Гомиашвили играл все роли, без исключения. Эта театральная постановка неизменно заслужила очень большую популярность и любовь зрителей везде, где ее демонстрировал талантливый молодой актер — от родной Грузии до многих городов Советского Союза.
Премьера этого моноспектакля состоялась в 1958 году, за тринадцать лет до того, как знаменитый режиссер Леонид Гайдай воплотит на экране персонаж известного романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев», навсегда изменившего жизнь Арчила Гомиашвили.
Несостоявшийся Штирлиц
Сложно представить кого-то кроме Вячеслава Тихонова в роли легендарного разведчика Максима Исаева, но, по словам Гомиашвили, на роль Штирлица в телефильме «Семнадцать мгновений весны» (1971) вначале был утвержден он. Однако, к его несчастью, работая над сценарием, Арчил влюбился в режиссера Татьяну Лиознову, и у них случился служебный роман.
Арчил Гомиашвили и Татьяна Лиознова
У Тихонова уже было имя в кинематографе, и ему удалось доказать руководству студии, что роль создана специально для него. Лиознова, на которую оказывали давление «сверху», самоустранилась от конкретного выбора, что было очень оскорбительным для Арчила. Обидевшись, он бросил все и уехал в Грузию. Получив телеграмму с просьбой вернуться, он проигнорировал ее. По словам Гомиашвили, когда роль отдали Тихонову, ему предложили сыграть Мюллера, что показалось актеру еще более оскорбительным.
Новое в блогах
Названая дочь Татьяны Лиозновой: «Арчил Гомиашвили более 30 лет таил на нее обиду» https://7days.ru/caravan/2014/11/nazvanaya-doch-tatyany-lioznovoy-archil-gomiashvili-bolee-30-let-tail-na-nee-obidu.htm

Фото: из личного архива Л. Лисиной
Своих детей у Татьяны Лиозновой не случилось, но была названая дочь Людмила Лисина. Она приоткрывает личную историю законспирированного режиссера «Семнадцати мгновений весны». Несправедливо, когда о Татьяне Лиозновой говорят как о «железной леди». Конечно, на съемочной площадке ее слушались Штирлиц, Борман и Мюллер. И даже в жизни она продолжала режиссировать всех и вся. Но за этой броней скрывалась ранимая, чуткая суть. Именно такую Лиознову я знала и любила. Звала ее «мамулей»…

Людмила Лисина
Фото: Юрий Феклистов
Она сама об этом попросила. А сначала так представляла меня знакомым: «Людуся, моя дочка». Терпеть не могла, когда кто-то в ответ округлял глаза и уточнял: «Приемная?» — «Людусь, почему люди верят только бумажкам?» Речь шла не об официальном статусе, а о том, что «материнская любовь других сильней». И хотя ни своих, ни приемных детей у Татьяны Михайловны не было, это чувство водопадом изливалось на меня, ее студентов и актеров. В моей ситуации это было совсем не просто. Мамы не стало, когда мне исполнилось 19 лет. Она лежала после операции приговоренная, а отец, Василий Петрович Колошенко, выполнял долг службы. Проводил в это время крайне опасные испытания самого большого в мире вертолета Ми-12. Вернулся на землю и, как в той песне, почувствовал, что она опустела… Правда, у него остались трое детей. Сказать, что Лиознова заменила мне маму, нельзя… Никто никого не заменит. Но Татьяна Михайловна ярко появилась в жизни нашей семьи и заполнила образовавшуюся пустоту. Со мной у нее возник какой-то особый контакт: наверное, мамуля понимала весь груз ответственности, который лег на старшую из осиротевших детей, — и взяла под свое крылышко, пригрела… С моим отцом ее познакомил общий друг Владимир Самойлович Марон, директор на нескольких картинах Лиозновой. А папа работал с ним в 1968 году над известным фильмом «Красная палатка» — управлял вертолетом, с которого снимали уникальные кадры Арктики. Тогда же встретились и они с Татьяной Михайловной. Двое из разных миров, но когда это мешало светлым чувствам? Их объединяла общая страсть к авиации (о чем уже был снят фильм «Им покоряется небо»). Ну и еще одна только им ведомая ниточка — от души к душе, которая связала почти на 50 лет… Две известные личности, для которых главное в жизни — их дело… Я каждый раз провожала папу на испытания с тревогой. Вернется ли? Без конца гибли его друзья. Иногда вертолеты, которые он испытывал, исчезали со всех радаров. Несколько раз отец пропадал во время испытаний: как-то вылетели два вертолета — один взорвался, другой исчез… Мы с семьей другого летчика всю ночь переживали: кто погиб? И за своего боялись, и друг другу горя не желали. В тот раз вернулся отец… Но его жизнь постоянно висела на волоске! Когда появилась мамуля, то, конечно, стала разделять это мое вечное беспокойство. И заражала в такие моменты своим оптимизмом: «Людусь, ну что? Есть вести с небес?» Если же сама уходила с головой в новый сценарий или в съемки — тоже на время пропадала «со всех радаров»… Они так и остались — каждый в своем космосе. К тому же самым главным человеком в жизни Татьяны Михайловны была мама, которая ласково звала дочку Таточкой. Ее отец Моисей Александрович погиб на фронте в первые дни обороны Смоленска. В семье Лиозновых навсегда осталось ощущение хрупкости, ненадежности этого мира. С детства Таточке приходилось выживать: в трудные времена они с мамой шили халаты на продажу, а когда не было возможности купить одежду, вязали свитера. Мама следила, чтобы Таточка умела вести хозяйство, хотя дочка не особенно этим увлекалась. Наш папа однажды спросил ее: «Борщ-то умеешь готовить?» И ее борщ удался на славу! Моего отца Ида Израилевна выделяла, всегда радушно принимала в своем доме: «Так, я считаю, Вася — один из лучших!»«Нет, он лучший, просто очень скромный», — так они с дочкой перешучивались, смущая гостя. А ведь мама очень строго подходила к отбору женихов Таточки! После окончания ВГИКа Лиознова какое-то время работала в «Литературной газете», и за ней начал ухаживать главный редактор, известный писатель Константин Симонов. Однажды угостил шампанским и подвез до дома. Поскольку Таточка задержалась, мама ждала ее на улице у подъезда. И вдруг видит, как дочка выходит из машины, за рулем которой сидит немолодой мужчина. Строго спрашивает: «Я тебе давала денег на такси?» — «Нет, мам, это же сам Симонов меня подвез!» — «Я тебе деньги на такси не давала!» — отрезала Ида Израилевна. И все. «Ну и я подумала — где я, а где Симонов?» — рассказывала потом Татьяна Михайловна. Маму она слушалась. Таточка любила развлекать ее утренними вояжами на автомобиле: на рассвете они часто катались вдоль Яузы… Не потому, что рано встали, — еще не ложились! Татьяна Михайловна не понаслышке знала, как долго просыпается Москва, о чем так лирично рассказала нам в «Трех тополях на Плющихе» (звонить ей самой до обеда было моветоном). Кстати, когда она утвердила на роль таксиста Ефремова, тот признался: «А водить-то я не умею!» Пришлось ей дать Олегу пару уроков, чтобы выглядел достоверно. Мало того, что мамуля была таким редким явлением, как женщина за рулем, — еще и лихачила! Машина срывалась с места, будто на пожар. Даже мой папа (летчик-испытатель!) всегда говорил ей вслед: «Ну разве можно так рисковать?» Правда, если эта гонщица вдруг звонила: «Машина заглохла!» — он бросал все дела и мчался: «Таточке надо помочь!» Со временем он тоже стал называть ее так. Когда я приходила к Лиозновым в гости, Ида Израилевна относилась ко мне с нежностью. Угощала, интересовалась моей жизнью, работой, аспирантурой… И если меня что-то тревожило, восклицала: «Таточка, нашу Людочку обижают!» А бывало, уже в ночи, после съемок, мне звонила Татьяна Михайловна и, попыхивая сигаретой, расспрашивала: «Людусь… пых… мама спрашивает… пых… как ты?» — «Все хорошо». Энергичное «пых» и… «Людусь, выкладывай!» Всегда меня раскалывала. Но выслушав очередную «маленькую трагедию», бросала пренебрежительное: «И поэтому у тебя такой голос? Пы-ых!» — как выплевывала. И мне вдруг становилось легче. Если же проблема и действительно казалась ей серьезной, давала совет: «Говна пирога! Гони от себя негодяев!» Когда у меня выдался трудный период, мамуля подарила мне маленькую икону. И вообще участвовала в самых важных событиях моей жизни. Так, она пришла вместе с отцом ко мне на защиту диссертации. Профессор узнал ее, подошел и попытался заключить в объятия: «Здравствуйте, Татьяна Михайловна, как я рад вас видеть!» «А я не очень, должна признаться!» — мгновенно среагировала она. — «Почему?» — «Потому что моя дочь сегодня защищается, а вы хоть знаете, сколько она в библиотеках сидела? Готовилась, ночи не спала! А вы тут разговоры ведете и не слушаете ее!» Опять всех построила, все срежиссировала. Самым главным человеком в жизни Татьяны Лиозновой была мама, которая ласково звала дочку Таточкой. С матерью и дядей Фото: из личного архива Л. Лисиной
И так всегда… Допустим, звонит моему мужу: «Где Людуся?» — «Я не знаю. Я болею». — «Слушай, Бронислав, если ты болеешь, то должен про все знать, авсе должны тебя слушать и отчитываться!» Это классика. К мужу моему Татьяна Михайловна хорошо относилась, но при знакомстве его, как и всех, ждал серьезный «экзамен».
Как правило, все затихали, стоило Лиозновой появиться в павильоне: она любила, чтобы ни шороха, пусть все внимают режиссеру Фото: из личного архива Л. Лисиной
Мою дочку Лену мамуля очень ждала. Обожала с ней возиться, когда она была маленькой. Полюбила, как внучку. Дарила подарки: самым любимым была огромная плюшевая собака Алька. Татьяна Михайловна придумала для Леночки такую игру: «Рассказывай Альке сказки, она все услышит». И дочка подолгу беседовала со своей новой «подругой»… Но однажды мы застали ее всю в слезах: «Вы обманули! Алька меня не слышит — у нее дырок в ушах нет!» Когда Лена выросла, мамуля при случае бросалась и на ее защиту. Например, в школе Лена шла на золотую медаль — и вдруг зарубили сочинение. Лиознова взялась за телефон, позвонила знакомой даме в отдел образования: «Всеми богами, и русскими, и еврейскими, прошу: посмотри, что делают с моей девкой? Отличница, ее сочинения постоянно висели на доске почета в посольской школе». Комиссия перечитала Ленину работу, и она получила серебряную медаль.
Таточку не сломило исключение из ВГИКа на первом курсе. Мастер Сергей Герасимов счел, что она слишком молода и неопытна для режиссера Фото: Петр Носов/ТАСС
Лиознова всегда была готова сделать добро, даже постороннему человеку. Никогда не афишировала, что помогала нуждающимся детям. Когда я была координатором всемирного проекта ЮНЕСКО «Дети в нужде» в России, Татьяна Михайловна постоянно сопереживала трагическим судьбам детей. Даже будучи тяжело больной, старалась им помочь. Вспоминаю, как министр культуры Александр Авдеев приехал к Лиозновой, чтобы вручить ей орден. После официальной части Татьяна Михайловна подала мне знак — и я рассказала о бедах детей Русского Севера. Она разбиралась в людях и почувствовала, что Авдеев не останется безучастным. И уже провожая его, добавила: «Помогите, а то она у меня больна этими детишками!» Не ошиблась: вскоре ребята получили много дисков с развивающими программами от Министерства культуры. Посмотрите, как трогательно в фильмах Лиозновой показаны дети, и, конечно, она всегда хотела своих. Я знаю, почему их не было, но это слишком личное…
— Ида Израилевна переживала, что дочка увлечена кино, а ее личная жизнь не складывается? Говорят, что недостатка в мужском внимании у Лиозновой не было…
— В первую очередь Ида Израилевна очень гордилась Таточкой, боготворила ее… А в остальном — как все матери. Они друг друга поддерживали: сначала мама одна поднимала дочку, потом та старалась обеспечить ей надежный тыл. Эти отношения мы видим в фильме «Карнавал» — все списано с жизни: как мама ждала, встречала, переживала за героиню Муравьевой… Татьяна Михайловна не скрывала, что этот фильм и про нее: «Он о надеждах моей молодости, — и еще со вздохом добавляла: — Жаль, многие не поняли, что эта девочка все-таки состоялась как актриса. Она ведь поет на сцене в финале!»
И профессию Таточка во многом выбрала благодаря Иде Израилевне. «Вечерами мама подолгу замирала перед стареньким нашим телевизором и всегда с такими глазами, будто ждала чуда! И я думала: «Это что же надо показывать, чтобы люди так смотрели?» Ощущение материнского взгляда на экран не покидало ее во время съемок. И с детства запечатлелось в Таточке мечтой оправдать ее ожидания. Ида Израилевна следила за творчеством дочери, вырезала рецензии из газет, с гордостью смотрела все фильмы. А как любила съемочная группа ее неожиданные визиты на площадку: все знали, что Татьяна Михайловна под маминым присмотром будет гораздо мягче обычного. Как правило, все затихали, стоило Лиозновой появиться в павильоне: она любила, чтобы ни шороха, пусть все внимают режиссеру. Не терпела, чтобы кто-то из актеров отвлекал внимание от съемок. А не выучить роль — это вообще смерти подобно! Тут Татьяна Михайловна становилась жесткой. Она все продумывала до мелочей.
Жизнь учила Таточку добиваться намеченной цели: ее не сломило исключение из ВГИКа на первом курсе за профнепригодность. Мастер курса Сергей Герасимов счел, что она слишком молода и неопытна для режиссера. Тогда Лиознова собрала всех отчисленных и привела Герасимова на спектакль, который она с ними поставила. И победила — Герасимов взял ее обратно!
После распределения на Киностудию имени Горького Лиознову сразу уволили «по национальному признаку». Но Татьяна Михайловна не разочаровалась: напротив, когда в 90-е годы многие евреи уезжали из страны, она яростно их отговаривала. Когда пошли разговоры об антисемитизме, папа позвонил ей и сказал: «Таточка, ничего не бойся, меня, курносого, на нас обоих хватит». Лиознова и в своих фильмах воспевала дружбу народов, с большой симпатией показывая людей разных национальностей: «Все мы советские граждане».

Об Арчиле Гомиашвили мне бы не хотелось говорить, потому что он ни разу не навестил Татьяну Михайловну в больнице… Никак не проявлялся. Будто и не любил вовсе, а более 30 лет таил на нее обиду. Не зря Иде Израилевне он никогда не нравился.
Познакомились они на одном из актерских вечеров, а закончилась любовь довольно прозаично. Татьяна Михайловна не раз сама рассказывала эту историю… Она собралась снимать «Семнадцать мгновений весны» и долго никого не утверждала на роль Штирлица. И вот однажды после отдыха в ресторане они с Арчилом и Юлианом Семеновым все вместе садятся в машину. Тут писатель со вздохом говорит: «Где же нам найти этого несчастного Штирлица? — и вдруг делает картинный жест рукой прямо в сторону грузинского носа Гомиашвили: — Да вот же он!» Лиознова буквально взорвалась от смеха: «Как представила этого Бендера в роли русского разведчика!» К тому же сцена, по ее мнению, была срежиссирована бездарно — уж тут ее было не обмануть!

В Татьяне Михайловне уживались внешняя хрупкость с внутренней силой. Это привлекало к ней людей. Мужчин в том числе. Причем, как правило, самых достойных и состоявшихся в своей профессии. Последним, с кем Татьяна Михайловна могла бы создать семью, был Владимир Кириллин, заместитель Алексея Косыгина, председателя Совета министров СССР. Умнейший, образованный человек — его научные труды в области термодинамики до сих пор занимают в библиотеке Лиозновой почетное место. У них были высокие отношения и уважение друг к другу. Однако Татьяна Михайловна не терпела, когда даже близкий человек вмешивается в ее работу. Когда она собиралась высмеять советскую бюрократию в фильме «Мы, нижеподписавшиеся», сначала пришла с Кириллиным на одноименный спектакль. После того как дали занавес, Владимир посоветовал: «Не лезь в это, тебя посадят». — «И тут я поняла: дорогой, да мне лучше с тобой расстаться!» У нее шаг влево, шаг вправо — расстрел. Но, конечно, они из-за этого не разошлись, Лиознова воплотила свой замысел, а потом пригласила Кириллина на премьеру, посадила в первый ряд и наблюдала… А в соседнем с ним кресле оказался мужик в костюме пожарного. Тот от смеха пополам складывался — и каждый раз заваливался на Кириллина, чуть не рыдая у него на плече! Забавно было видеть реакцию простого работяги и высокопоставленного чина. И Владимир признал, что был не прав. А общее счастье им построить не удалось…
Я никогда не лезла в душу к мамуле: захочет — сама расскажет. И много было личного, что останется только нашим с ней секретом. Но выворачивать свои чувства наизнанку — это не про нее. Намекнет, а ты догадывайся. Например, Татьяна Михайловна часто говорила про любимую свою Нонну Мордюкову: «Не родился еще мужик ее объема! Ее достойный!» Но разве могла она сказать нечто подобное про себя! Боже упаси! И лучше было не спрашивать, не гневить…

— Я надолго угодила в больницу, когда Лиознова начала съемки. Но, несмотря на это, она приезжала, звонила, передавала гостинцы… И, конечно, что-то рассказывала. А потом все эти истории я еще много раз слышала на ее творческих вечерах от непосредственных участников событий…
Как я уже говорила, утверждение на роль Штирлица проходило долго, и наконец Татьяна Михайловна нашла свой идеал. Только когда начались съемки, у него вдруг обнаружился один изъян: на руке была татуировка «Слава», что могло с головой выдать советского разведчика. Пришлось ретушировать.
Лиознова говорила: «В этом фильме нет ни одной лишней паузы». Хотя актерам гораздо сложнее молчать в кадре, чем говорить… Порой Тихонов спрашивал: «О чем я буду так долго молчать с сосредоточенным лицом?» «А ты вспоминай таблицу умножения!» — парировала режиссер. Знаменитая шестиминутная сцена встречи разведчика с женой вошла в историю. Но когда Татьяна Михайловна утвердила Элеонору Шашкову, она даже не предупредила, в чем будет заключаться ее роль. «Дайте хотя бы слова выучить!» — попросила молоденькая актриса. — «Иди спать, в твоей сцене нет слов». — «А что же мне играть?» Сначала сцену собирались снимать без Тихонова — дали ему выходной. Но Шашковой повезло: он пришел на площадку — ему хотелось увидеть ту женщину, по которой так тоскует Штирлиц. Кстати, эта сцена появилась в фильме благодаря Тихонову — в сценарии ее не было. Один разведчик в отставке рассказал ему, как через несколько лет работы за границей смог увидеть свою жену, когда ее подвели к витрине магазина, в котором он находился… И Тихонова, и Лиознову эта история тронула… В жизни Татьяна Михайловна и сама умела красноречиво молчать: взгляд у нее был сканирующий, как глянет — оторопь берет. И столько оттенков было у этого взгляда: и гневный, и любящий, и с лукавинкой, и с ожиданием… Она часто смотрела на человека так, будто ждала от него тройного сальто… И каждый актер всем своим существом хотел оправдать эти надежды.
«Канцлер Бисмарк, дрессировщица, — шутил про нее Леонид Броневой. — Иногда думал: ну его, все брошу! — разворачивался, доходил до двери павильона… И вдруг слышал вслед: «Мотор! Вот таким ты мне и нужен, на грани эмоций!» Лиознова редко объясняла актеру задачу на пальцах — просто знала, на какие точки надавить, чтобы он попал в образ.

Например, Леонида Куравлева сначала пробовала на роль самого Гитлера. Тот удивлялся: всю жизнь играет простаков — и вдруг надо выдать тирана. Подошел со всей ответственностью, долго примерялся… А в последний момент Татьяна Михайловна сделала рокировку и утвердила его на роль Айсмана. Куравлев к тому времени уже «ожесточился», насколько мог… Но у него же доброе, открытое лицо — эти мягкие черты пришлось сглаживать черной повязкой на одном глазу. Леонид все понимал, но расстраивался: «Лишив глаза, вы наполовину урезали мои актерские возможности».
Когда записывала песни с Иосифом Кобзоном, режиссер не думала сообщать, для чего они ей нужны. Сразу предупредила: «Сможешь петь не как Кобзон?» «А как кто же я должен петь, интересно?» — развел он руками. — «Только не как главный голос страны!» Если бы она рассказала, что это фильм о русском разведчике, наверное, патриотизма в интонациях певцу было бы не избежать… А ведь Лиознова замыслила показать разведчика через его судьбу… Только когда фильм стали крутить по телевизору, Иосиф Давыдович вдруг услышал знакомые аккорды… И никто не верил, что это он поет. Кобзон был одним из самых близких и преданных людей. Все годы болезни Татьяна Михайловна чувствовала его заботу и поддержку. А еще очень любила его жену Нелли.

Музыкальность Лиозновой была уникальна, что чувствуется во всех ее фильмах. Это заметили еще родители и даже хотели отдать дочку учиться играть на скрипке, но денег на инструмент не было… Татьяна Михайловна всегда любила петь, делала это с душой… А если кто-то из дружеского хора выбивался, осаживала: «Тихо-тихо…» И Роберт Рождественский оставил ей в одной из своих книг шуточное послание: «Танечка, пой, пожалуйста, только тихо-тихо», — а рядом веселая рожица. В последние свои дни Татьяна Лиознова переживала, что недостаточно поблагодарила всех, кто с ней работал… Особенно тех, кому уже не позвонишь. Рождественского, Катаева, Тихонова — их уход она переживала очень тяжело.
Я знаю, что они всей съемочной группой «Мгновений» были у Ванги. Лиозновой прорицательница сказала: «Я знаю, ты боишься за маму, пока не бойся». Иды Израилевны не стало именно так, как предсказала Ванга. А Тихонову она сказала: «Конец жизни ты проведешь в уединении». И тоже не ошиблась. Но отношения с Лиозновой продолжались всю жизнь. Он ее не забывал — звонил, поздравлял с праздниками. Татьяна Михайловна ждала его на своем 85-летии, но у него не получилось по состоянию здоровья. А когда слег — она не смогла навестить его.
— Как Татьяна Михайловна восприняла то, что «Семнадцать мгновений весны» перевели в цвет, сократили под современный формат?
— В советские годы она пережила большой успех у зрителя: известен факт, что после выхода фильма ею было прочитано 12 мешков писем. Во время показа ей домой звонили особенно нетерпеливые работницы с Лиознова просчитала каждую деталь, каждое мгновение своего фильма… И вдруг его сокращают «для динамики»… Тихонов тогда сказал: «Это не то кино, в котором я снимался».
Лиознова редко объясняла актеру задачу на пальцах — просто знала, на какие точки надавить, чтобы он попал в образ. С Евстигнеевым на съемках «Семнадцати мгновений весны» Фото: из личного архива Л. Лисиной
К тому времени Лиознова уже много лет боролась за жизнь, и это была для нее возможность вырваться из череды больниц. Работа над фильмом возвращала ее в профессию: «Я будто снова попала на съемочную площадку». И все же согласие на такое кардинальное изменение далось ей с большим трудом. Главным аргументом «за» стала реставрация пленок, истертых бесконечными показами, — фильм был спасен. И второе — цветное кино привлекало нового зрителя.
Реставраторы подошли к этой работе уважительно: Александр Любимов с группой приезжали к Лиозновой, показывали каждую серию, обсуждали каждый этап работы, прислушивались к ее советам. Перед их визитом Татьяна Михайловна брала себя в руки даже в больничной палате: готовилась — вызывала парикмахера, одевалась, делала маникюр… Прятала свои болезни и невзгоды.
Лиознова ведь не случайно взялась снимать фильм о разведчиках — это была ее гражданская позиция, она всегда связывала себя с судьбой страны и относилась к своим работам ответственно. Месяцами сидела в архивах, до 4 утра изучала такие документы, как «Военные планы США». Как она рыдала в 90-е, когда наша армия получила всего один новый самолет за год! Отчизна в опасности! Снова вернулось ощущение зыбкости, несправедливости этого мира, которое жило в ее воспоминаниях о войне, о гибели отца. Она плакала навзрыд из-за разрушения Советской армии… А ведь за 10 лет болезни Лиознова не проронила ни слезинки!
В перестройку мы с мужем работали в Берлине. Татьяна Михайловна была нашим гостем, когда приехала показывать свой последний фильм на зарубежную премьеру. В общей компании она увидела наших разодетых на распродажах эмигранток. «Как здесь хорошо, не то что у вас», — пытались они выпендриться. Но Татьяна Михайловна быстро поставила их на место: «Да кем бы вы были сейчас, если бы вас не выучила Россия?» В 88-м мы рвались домой, чтобы поработать на «социализм с человеческим лицом»… Но Лиознова сказала: «Не надо, не те люди пришли к власти, поверь мне».
Татьяна Михайловна не скрывала, что фильм «Карнавал» про нее: «Он о надеждах моей молодости, — и еще со вздохом добавляла: — Жаль, многие не поняли, что эта девочка все-таки состоялась как актриса. Она ведь поет на сцене в финале!» Татьяна Лиознова с Ириной Муравьевой Фото: из личного архива Л. Лисиной Мы, конечно, не поверили — думали, она консерватор. Вернулись… И тоже узрели этот безумный развал.
«Настало время ряженых, я не знаю, чем дышит моя аудитория», — говорила Татьяна Михайловна. Ее мир рухнул, было непонятно, по каким законам теперь снимается кино. Очень переживала, что ее последний фильм «Конец света с последующим симпозиумом» не имел большого успеха — просто пришелся не ко времени. Он был антиамериканский — Лиознова уже тогда чувствовала ненадежность этих отношений, но настроения в обществе с ее мнением не совпали.
Каждый сценарий Татьяна Михайловна искала по нескольку лет. Ее не интересовал заработок: «Я могла по три года ходить в одной юбке, но снимать была готова только то, отчего сердце забьется». Ее не интересовала роскошная жизнь — когда одна телепрограмма сделала в подарок ремонт к 85-летию, мамуля не могла привыкнуть к новым стенам: «Живу теперь как в антикварной лавке».
Над последним сценарием они сидели вместе с моим отцом: оба загорелись идеей рассказать об еще одном малоизвестном подвиге советских людей. Это должна была быть история советского ледокола, который во время войны оказался отрезан вражескими судами у Черноморского побережья. А он нужен был, чтобы прокладывать путь нашим кораблям в северных широтах. Матросы с помощью старых досок закамуфлировали корабль под видавшее виды торговое судно. Под покровом ночи ему удалось проскочить через Босфор, выйти в океан… И только через год, преодолев множество испытаний, они достигли Мурманска. Папа с Таточкой увлеченно писали, готовились делать кино… «Сначала она приглашала меня в кругосветное путешествие, потом — я ее», — написал Василий Колошенко в своей книге. Речь шла о масштабных съемках с вертолета, съемочная группа должна была повторить путь легендарного ледокола. Но изменились время и ценности, для проекта не нашлось спонсора. Последний сценарий Татьяны Лиозновой пылится на полке. Но отец не оставляет надежды, что найдутся люди, которые помогут их с Таточкой идее осуществиться.
— Когда Татьяна Михайловна узнала свой диагноз, она с ним смирилась?
— Мамуля все понимала, но боролась за жизнь целых 10 лет. После третьей операции у нее отказали ноги. Врачи надежды не давали. И только Валентин Дикуль взялся ей помочь. На тренировках в его клиниках рыдали здоровенные мужики, а Татьяна Лиознова сказала: «Никто стона от меня не услышит». Ее всем ставили в пример. Я с ужасом вспоминаю те тренажеры, на которых она трудилась через боль… И ведь все преодолела, пошла… Но болезнь продолжала наступать. Мамуля жила от больницы до больницы.
Но и тут она оставалась режиссером, придумывала и вовлекала людей в разные ситуации. Например, на полгода притворилась глухой. И всем — врачам, сиделкам, даже близким — приходилось общаться с ней жестами.
Мамуля мне говорила: «Ты мой ангел-хранитель». И я благодарна судьбе, что она свела нас с Татьяной Лиозновой. Они с отцом до последнего тоже держались вместе… Фото: из личного архива Л. Лисиной Ей было так интереснее за нами наблюдать! При мне мамуля, правда, иногда забывалась — и я понимала: она меня слышит. Потом надоело играть — и слух к Лиозновой «вернулся»…
Когда мамуля куксилась, я показывала фотографию из молодости: «Смотри, какая ты красавица!» — и глаза ее улыбались. Лиознова не чувствовала своего возраста, часто спрашивала: «А сколько мне сейчас лет?» До последнего принимала своих верных студентов — с ними она возвращалась и в свою молодость (кстати, они тоже называли ее «мамой»). Правда, бывало, Таточка пересиживала с гостями, потом ей становилось плохо — и снова «скорая», больница…
Очень дружила с художником по костюмам Марочкой Быховской. И ушли они вместе — Татьяна Михайловна пережила подругу на 1 день. У нас с Марочкой тоже была дружба, только тайная. Почему? Да просто мамуля меня ревновала ко всем, не хотела делиться. Говорила «Ты мой ангел-хранитель». И я благодарна судьбе, что она нас свела. Они с отцом все это время тоже держались вместе…
Татьяна Михайловна привыкла все контролировать… Даже какую надпись на могильной плите сделать, в завещании указала: «Народная артистка СССР, кинорежиссер Татьяна Лиознова». Но мастер после каждой буквы в аббревиатуре «творчески» поставил точку.
Как-то после очередной больницы пресса распустила слух о кончине Татьяны Лиозновой. Друзья набирали ее номер — чтобы выразить соболезнования близким… Но натыкались на знакомый голос — и не знали, что говорить. Один от неожиданности воскликнул: «Татьяна Михайловна, так, получается, вы живы?» «А вы с какого света звоните?» — мгновенно парировала она в своем стиле.
Мне мамуля сказала: «Дочка, как быстротечна жизнь!» Не думай о секундах свысока… И в ту секунду откуда нам было знать, что этот разговор станет последним?
Мне мамуля сказала: «Дочка, как быстротечна жизнь!» Не думай о секундах свысока… И в ту секунду откуда нам было знать, что этот разговор станет последним? Фото: Юрий Феклистов
Беседовала Мария Черницына
«Золотой Остап» и новая деятельность
В 80-х на волне перестройки актер увлекся режиссурой и решил сам написать сценарий по книге миллионера Майкла Филда «Америка глазами таксиста». Он отправился в Западный Берлин, чтобы обсудить идею с самим Майклом и договориться о финансировании проекта.
После успеха в кино Арчил Гомиашвили стал бизнесменом
Немецкий бизнесмен отказался связываться с кинобизнесом, но подарил Арчилу десять игральных залов казино. Кроме того, Гомиашвили выиграл более ста тысяч марок в казино. Так стремление к творчеству в одночасье сделало его состоятельным человеком, и Гомиашвили решил открыть в Москве собственный клуб с рестораном, назвав его «Золотой Остап».
Клуб Арчила Гомиашвили «Золотой Остап»
Заведение стало одним из самых популярных мест столицы начала 90-х, признанным лучшим даже по европейским меркам. В 1990 году Гомиашвили стал акционером компании “Сити-бизнес” и открыл в Москве итальянские бутики.
Кровные узы
Биография Арчила Гомиашвили началась в Грузии, на той самой Военно-Грузинской дороге, по которой впоследствии пройдет главный киногерой его жизни и карьеры Остап-Сулейман-Берта-Мария-Бендер-бей.
Арчил Попхадзе, дед будущего актера, был человеком сурового нрава, воспитанным в духе своих угрюмых предков. По ощущениям его знаменитого внука, он был бандитом, и вся эта извилистая дорога находилась под его неусыпным контролем. На ней он держал свой большой двор, перекладные экипажи, перевозящие пассажиров от одной почтовой станции до другой, и четырех малоулыбчивых сыновей.
На фото — Военно-Грузинская дорога начала XX века, епархия деда актера.
Михаил, отец Арчила Гомиашвили, был младшим сыном Арчила Попхадзе и все, что ему могли доверить — это только пасти стада овец на зеленых склонах грузинских гор.
В отличие от серьезного Михаила, мать Арчила была удивительной и веселой хохотушкой, у которой всегда на губах блуждала улыбка. Она была дочерью католикоса, высшего духовного лица Грузинской православной церкви, барышней образованной и интеллигентной.
Повинуясь древнему укладу своей строгой семьи, отец Арчила украл свою невесту, привез ее в родительский дом и укрылся за высоким забором. Вскоре, размахивая саблями и паля из винтовок, подоспела родня девушки. Однако связываться с самим Арчилом Попхадзе ее родственники все же не рискнули.
Так и образовалась семья, подарившая миру знаменитого актера.
Личная жизнь Арчила Гомиашвили
Вторая жена Гомиашвили Лиана Манджавидза
Как говорил сам актер, ревность Лианы переходила иногда в манию, и даже в его привычке принимать каждое утро холодный душ она подозревала грядущую измену. Арчил не был святошей и любил женщин, но разводиться не собирался. Тем не менее, семьи не сложилось, хотя своих мальчиков Гомиашвили всегда обожал и всячески поддерживал.
Несколько лет после развода актер жил холостяком, занимаясь карьерой. Но однажды мужчина встретил юную балерину по имени Татьяна, которой предложил руку и сердце, несмотря на большую разницу в возрасте (возлюбленная была младше на 24 года). О своем втором браке артист вспоминал со смехом: С женитьбой на этой девушке к 44-летнему Арчилу пришла и слава великого комбинатора, а вскоре счастье стало еще более полным: Татьяна подарила ему одну за другой двух дочек – Нину и Катю.
Дочери Арчила – Нина и Катя Гомиашвили
Несмотря на собственную юность, женщина оказалась мудрой и любящей, всегда готовым прийти на помощь другом и верной спутницей по жизни. Дочери Гомиашвили, Нина и Екатерина связали свою жизнь с искусством и подарили Арчилу внуков.
Смерть актера
Арчил Гомиашвили всегда внимательно относился к собственному здоровью и ежегодно обследовался. Именно поэтому диагноз врачей — рак дыхательных путей с метастазами в легкие — грянул для Арчила и его родных словно гром. В Америке 79-летнему актеру сделали несколько операций по удалению опухоли и лимфатических узлов — их было больше сорока. Как только Арчил Михайлович почувствовал себя лучше, тут же сбежал из больницы, приехал в Москву и собрал всех друзей у себя в «Золотом Остапе».
Арчил Гомиашвили в старости
По словам внучки актера Анастасии, смертельные осложнения от него скрывали, хотя Гомиашвили и стал догадываться о них после резкого ухудшения. Жена Татьяна все время находилась рядом. Метастазы распространялись по организму очень быстро, поэтому в последние дни жизни Гомиашвили уже молчал и никого не узнавал.
Актер скончался 31 мая 2005 года в онкологическом отделении больницы. Похоронили его на Троекуровском кладбище Москвы рядом с могилой Натальи Гундаревой.
Фильмография
- «Лично известен» — (1957)
- «Чрезвычайное поручение» — (1965)
- «Простите, вас ожидает смерть» — (1966)
- «26 бакинских комиссаров» — (1966)
- «Иные нынче времена» — (1967)
- «12 стульев» — (1971)
- «Мимино» — (1977)
- «Любовь моя, печаль моя» — (1978)
- «Комедия давно минувших дней» — (1980)
- «Золотое руно» — (1981)
- «Раннее, раннее утро…» — (1983)
- «Медный ангел» — (1984)
- «Государственная граница. Год сорок первый» — (1986)
- «Мой любимый клоун» — (1986)
- «Сталинград» — (1989)
- «Война» — (1990)
- «Место убийцы вакантно…» — (1990)
- «Супермен» — (1990)
- «Официант с золотым подносом» — (1992)
- «Ангелы смерти» — (1993)
- «Трагедия века» — (1994)
Память
В 2006 году родные установили на могиле любимого мужа, отца и дедушки памятник — фигуру Арчила Гомиашвили в роли Остапа Бендера. Он стоит, немного склонившись вперед, опираясь ботинком на знаменитый резной стул, и смотрит куда-то вдаль.